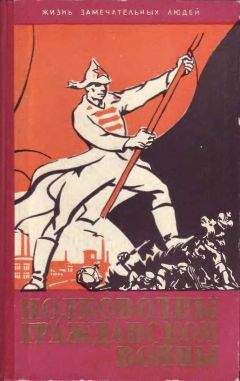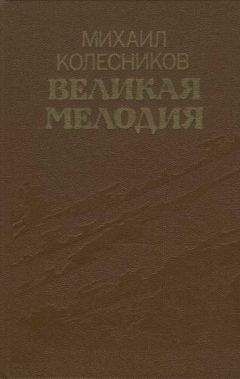Лев Гумилевский - Собачий переулок[Детективные романы и повесть]
Доктор Самсонов, дороживший больным больше всего как исключительно хирургическим опытом, вполне соглашался с ним и даже распорядился дежурить вместе с ним сестре.
Нельзя сказать, чтобы Хорохорин находился в полном бессознании. Иногда казалось, что он видит и понимает, что происходит возле него, но проблески сознания были столь кратковременны, что мысль его не успевала ассоциировать настоящее с прошлым: он внимательно оглядывал находившихся возле него, однажды даже улыбнулся Шульману, но едва лишь тот раскрыл рот что-нибудь сказать, как больной вздохнул и снова погрузился в беспамятство.
Как раз в полдень четвертого дня Хорохорин открыл глаза. Было солнечно, горячий свет проникал в щелку шторы и падал прямо на его лицо. От резкого света он опустил веки. Шульман, думая, что и это было одно из мимолетных сознательных движений, неторопливо встал и, отойдя к окну, стал оправлять занавеску. Он задержался там, сожалея, что в этот прекрасный день должен сидеть в духоте больничной палаты, как вдруг совершенно отчетливо услышал, как его назвали по имени.
Он обернулся, не глядя на Хорохорина и ища того, кто его звал. И, убедившись, что он ослышался, взглянул на больного. Тот лежал с открытыми глазами и смотрел на него. Шульман вздрогнул от неожиданности.
— Поди сюда! — отчетливо сказал Хорохорин. — Сядь.
Шульман сел рядом. Голос у Хорохорина изменился, заглох, и Шульман, полагая, что ему трудно говорить, наклонился к нему ближе, чтобы тот мог говорить шепотом.
Он не нашелся что сказать. Хорохорин же продолжал тихо, но в совершенном сознании:
— Послушай, значит, меня отходили?
— Да! Самсонов тебе сделал исключительно остроумную операцию! Выздоровеешь!
— А Вера умерла?
— Ты не волнуйся, не спрашивай, не говори об этом! — остановил тот его.
Хорохорин упрямо и с раздражением оборвал его и повысил голос:
— Если ты отвечать не будешь, так я еще больше раздражаться буду. Говори — умерла?
Вся палата затихла. Больные привстали со своих коек. Прислушившаяся сестра вихрем вылетела из палаты и без стеснения загремела топотом ног по коридору.
Шульман кивнул головой:
— Да, умерла! Хоронят сегодня…
— Ааа!.. — изумился Хорохорин. — Сколько же времени я тут лежу?
— Четвертый день!
— Только-то? Я не хотел ее убить, — добавил он тихо, — это почти нечаянно вышло…
Он закрыл глаза и замолчал. Тут уже Шульман не выдержал и, забывая о своих кураторских обязанностях, спросил:
— Послушай, а это ты… ты это ее убил?
Хорохорин открыл глаза, покосился на него с некоторым удивлением, но ответил с твердостью, исключавшей всякое подозрение в неполном сознании говорившего:
— Да, это я убил!
Шульман вздрогнул и уже ни о чем не спрашивал его больше. В тот же миг явились дежурный врач, сестры. Шульман потолкался возле них и умчался на кладбище с сенсационным известием.
Хорохорин, придя в сознание, тем не менее находился в том состоянии тяжело больного человека, когда, и вполне отдавая себе отчет во всем происходящем, больной остается равнодушным и целиком чувствует только тепло солнца, покойную постель, голод или жажду. Он с оживлением выпил чашку горячего молока, но отозвался с совершеннейшим равнодушием на вопрос врача: «Можете ли вы говорить с посторонними?»
— Если нужно, могу говорить!
— Мы обязаны, — конфузясь, заметил врач, — немедленно сообщать о всякой пёремене в вашем положении судебному следователю…
Хорохорин, очевидно, ждал речи об этом, потому что, не удивившись ничему, согласился.
— Пусть приходят! Я могу сказать все… Я очень хорошо все помню… Мне только жаль, что я не умер… В другой раз, — он улыбнулся, — в другой раз это трудно… Я не хотел ее убивать! — закончил он. — Скажите всем это… Я ведь никогда не лгу. Они знают.
— Да все так и думали! — ответил доктор и, оставив возле него сестру, вышел.
Следователь явился через час. Дело это было поручено молодому нашему следователю Борисову, человеку способному и толковому. Он самым внимательным образом изучил все материалы, переданные уголовным розыском, милицией и собранные им непосредственно при опросе многочисленных знакомых Веры и Хорохорина. За три дня работы о жизни того и другого он знал едва ли меньше, чем они сами.
Он явился к больному без портфеля, без всех устрашающих атрибутов представителя судебной власти. Он подсел к Хорохорину как хороший знакомый и справился о его самочувствии. Хорохорин не догадался сразу, с кем имеет дело, и, только когда тот назвал себя, он удивился.
— Ах, вот кто вы! Мне сказали, что вы придете, — начал Хорохорин. — Я вам все скажу. — Он помолчал, потом заговорил взволнованно — Видите ли, эти револьверы новых систем — ужасные штучки! Можно выстрелить, прямо не замечая… Я к тому это говорю, — пояснил он, — что как-то случайно это вышло… Я как сумасшедший был, главное еще потому, что я прямо от доктора зашел к ней…
Следователь перебил его:
— Это вы все после скажете, а сейчас только о самом главном два-три вопроса… Потом мы вас допросим, составим протокол, а пока не нужно. Главное вот что: вы из одного револьвера стреляли в себя и в эту девушку…
— Ну конечно! — ответил он.
— Никого третьего не было в комнате?
— Свидетелей? — вздрогнул Хорохорин. — Нет, не было! Но я вам рассказываю как было. Я хорошо все помню! Я никогда не лгал и лгать не буду! — Он волновался все более и более. — Я не оправдываюсь… Я только хочу сказать, как было. Меня хоть сейчас расстрелять — так я рад буду…
Следователь едва мог остановить его.
— Вы сейчас узнаете, в чем дело и для чего я спрашиваю. В револьвере, который мы нашли, оказался только один израсходованный патрон! Пуля, которую извлекли при вскрытии убитой, другого размера…
Хорохорин выслушал с недоумением, потом раздраженно прикрыл глаза.
— Чепуха какая. Перепутали вы что-нибудь.
Следователь улыбнулся и закипел неуемной энергией.
— Хорошо. Теперь еще один вопрос, чтобы не утомлять вас. Вы оставили записку на столе?
— Оставил.
— Если вы так хорошо все помните, может быть, вы помните, что там было написано вами?
— Помню хорошо.
— Что именно?
— Буквально помню: «Так жить нельзя. Лучше умереть».
— И больше ни слова?
— Разве этого мало? Я так себя чувствовал, так и написал. И написал затем, чтобы покончить с собой. Раз уже написал, так обязан… А это трудно кончать с собой… При всяком положении! Без записки, может быть, ничего бы и не было, а тут уж все было решено и подписано!
Следователь взволнованно выслушал его, дал время ему успокоиться в молчании и гробовой тишине, которую нарушить даже громким дыханием боялись толпившиеся в дверях больные и служащие.
— Еще что сказать? — прервал молчание Хорохорин.
— Еще один вопрос, один только вопрос: не знаете ли вы кого-нибудь из знакомых убитой, кто был бы способен подделывать почерки?
— Не знаю!
Следователь потер лоб. Столь жадно ожидаемый всеми опрос Хорохорина не только не разъяснял недоумений в такой, казалось бы, простой истории, но, наоборот, все запутывал еще более.
— Да вы уверены, что вы убили? — теряясь, вдруг резко спросил следователь.
— Да, это я убил! — ответил Хорохорин. — Вы напрасно думаете, что я плохо сознаю, что говорю. Разве я перепутал написанное в записке?
— Да!
Хорохорин сделал попытку приподняться, его тотчас же остановили. Он удивленно посмотрел на следователя.
— Что я спутал?
— Вы написали: «Так жить нельзя. Лучше умереть — обоим!»
— Покажите записку! — почти крикнул Хорохорин. — Я не мог этого написать. Я не думал даже об этом! Она видела, как я писал… Дайте записку!
Следователь не торопясь достал из бумажника загадочный документ и поднес его к глазам Хорохорина. Тот не без волнения взглянул на него и наморщил брови, точно терпеливо выносил какую-то мучительную острую боль.
— Я не писал этого слова.
— Кто же это написал? Почерк ваш?
Хорохорин присмотрелся и ответил не сразу.
— Очень похоже. Может быть, — он с трудом уже начинал говорить, — может быть, я в бессознании потом приписал это? Или пошутил кто-нибудь! Да это не важно. Ведь я не оправдываюсь ни в чем.
Следователь пожал плечами.
— Что же вы, после того как стреляли в себя, могли писать, что ли?
— Не знаю.
— Или вы думаете, что есть два человека, у которых так схожи почерки?
— У нашего приват-доцента Бурова почерк очень похож. Мы сравнивали один раз — не отличишь! Что тут удивительного! Но, может быть, и я писал, но не помню. И не для чего было это писать…
Но уже одного имени Бурова было достаточно, чтобы в уме следователя вдруг все перевернулось, казалось, что кто-то дернул за кончик нитки с большой силою, и клубок начал разматываться с феерическою быстротою.